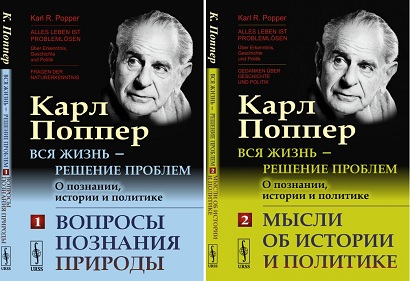Книга «Вся жизнь – решение проблем» включает ряд избранных работ влиятельного мыслителя XX века К.Р. Поппера, посвященных ключевым философским проблемам, занимавшим его в разные годы жизни. В первой части приводятся рассуждения автора о философии науки, теории познания, границах научного познания, проблемах взаимодействия биологии, химии и физики. Вторая часть содержит мысли об истории и политике: здесь ставятся вопросы о мире и возможности войны в наше время, свободе, ответственности и смысле истории, демократии и открытом обществе. Подборка статей и подача материала определялись самим Поппером и его ближайшими коллегами в последний год его жизни. Большая часть текстов публикуется на русском языке впервые.
Карл Поппер. Вся жизнь – решение проблем. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2018. – 200 с. + 232 с.
Скачать краткое содержание в формате Word или pdf
На момент публикации заметки книга доступна только на сайте издательства.
Учение о науке с точки зрения теории развития и логики
Естественные науки, равно как и науки социальные, всегда исходят из проблем; из того, что вызвало у нас изумление, как говорили древнегреческие философы. Для решения этих проблем наука прибегает в принципе к тому же самому методу, который применяется здравым смыслом, — методу проб и ошибок. Выражаясь более точно, этот метод состоит в том, чтобы опробовать решения нашей проблемы и исключать ложные решения как заблуждения. Он предполагает, что мы имеем дело со множеством пробных решений. Одно решение за другим последовательно испытывается и исключается.
Эта процедура, которую применяет низший организм и даже одноклеточная амеба, пытаясь решить некоторую проблему. Успешное решение животного можно сопоставить с ожиданием и тем самым с гипотезой или теорией, поскольку поведение животного свидетельствует о том, что оно ожидает (быть может, бессознательно или в силу предрасположенности), что в другой подобной ситуации то же самое пробное движение вновь разрешит данную проблему.
Мы можем сказать, что поведение животных, а также растений показывает, что организмы ориентируются на регулярности или закономерности. Они ожидают регулярностей или закономерностей в своем окружении, и я склонен полагать, что большинство таких ожиданий обусловлены генетически, то есть являются врожденными. Для животного проблема возникает тогда, когда ожидание не оправдывается. Это ведет к пробным движениям и тем самым к попыткам заменить несбывшееся ожидание новым.
Научение посредством проб и ошибок сводится к трехступенчатой схеме: 1) проблема; 2) попытки решения; 3) исключение (элиминация). Эта схема может рассматриваться как модель дарвиновской теории эволюции. Она применима не только к развитию отдельного организма, но и к эволюции видов. Таким образом, наука – биологический феномен. Она возникает из донаучного знания, и является значительным качественным развитием познавательной способности здравого смысла, которая, в свою очередь, может пониматься, как качественное развитие познавательной способности животных.
Трехступенчатая схема применима в том числе и к науке. Прежняя теория познания учила, что отправной точкой науки служит наше чувственное восприятие или чувственное наблюдение. Однако, без проблемы нет наблюдения. Особенность науки состоит в том, что на третьей ступени нашей схемы, на этапе исключения наших заблуждений, мы действуем сознательно критически.
Все донаучное знание, будь то животное или человеческое, догматично. Создание критического метода непременно требует наличия дескриптивного человеческого языка, с помощью которого можно формулировать критические аргументы. Существует огромное различие между мыслью, помысленной и той же самой мыслью, которая сформулирована словесно и тем самым представлена на публичное обсуждение. Мое утверждение — например, предсказание, — будучи сформулированным посредством языка, отделяется от моей личности. Оно объективировано: оно может подтверждаться опытным путем другими, а также мною самим, но может также и оспариваться опытным путем. Аргументы за и против могут быть оценены и обсуждены. Люди могут занять в отношении моего предсказания ту или иную позицию.
Научное знание состоит из объективных утверждений, выраженных посредством языка, из гипотез и проблем, а не из субъективных ожиданий или убеждений.
Мы испытываем наши теории, более того — мы стремимся подвергнуть их серьезнейшему испытанию. Мы делаем все, чтобы элиминировать наши теории, поскольку сами хотим обнаружить те из них, которые ошибочны.
Мой основной тезис гласит: научную точку зрения и научный метод отличает от донаучной точки зрения метод фальсификации попыток. Каждая попытка решения, каждая теория испытывается настолько строго, насколько мы только можем. Но строгая проверка — это всегда попытка вскрыть слабости (недостатки) того, что подвергается проверке. Наша проверка теорий также представляет собой попытку вскрыть их недостатки. Стало быть, такая проверка теории — это попытка ее опровергнуть, или фальсифицировать.
Однако, у нас нет никаких гарантий, что каждая научная дискуссия непременно приведет к решению. Не существует гарантий научного прогресса. Научный метод является не кумулятивным, а революционным. Научный прогресс в значительной мере состоит в замене более ранних теорий новыми. Революционная теория исходит из новых гипотез, а ее следствия выводят нас далеко за пределы старой теории и прямо противоречат ей. Эти противоречия дают возможность измыслить эксперименты, позволяющие осуществить выбор между старой и новой теориями, но только в том смысле, что они могут фальсифицировать по меньшей мере одну из них. Эксперименты могут доказать превосходство теории, прошедшей проверку, но не ее истинность. Выдержавшая испытание теория может вскоре устареть в свою очередь.
Мы всегда очень много узнаем посредством фальсификации. Мы узнаем не только то, что теория ошибочна, но и то, почему она ошибочна. Но самое главное — мы получаем новую и более точно сфокусированную проблему. А новая проблема, как мы уже знаем, служит подлинной отправной точкой нового витка научного развития. Я предлагаю четырехступенчатую схему, характерную для науки и динамики научного знания: 1) старая проблема; 2) формирование пробных теорий; 3) попытки исключения посредством критической дискуссии, включая экспериментальную проверку; 4) новые проблемы, возникающие из критического обсуждения наших теорий.
Я предпочитаю принимать в качестве начального пункта проблему, но я сознаю, что циклический характер схемы позволяет рассматривать в качестве отправной точки нового развития любую ступень.
Наука в том виде, как она предстает в этом логическом наброске, является феноменом, постигаемым в постоянном росте; она принципиально динамична, никогда не представляет собой чего-то завершенного: нет такой точки, в которой она достигала бы своей цели раз и навсегда.
Важное следствие моего основного тезиса связано с вопросом о том, чем эмпирико-научные теории отличаются от других теорий. Эмпирико-научная теория отличается от других теорий тем, что может быть опровергнута возможными результатами экспериментов; другими словами, это значит, что можно описать такие возможные экспериментальные результаты, которые опровергли бы теорию, если бы мы действительно получили их. Эту проблему разграничения эмпирико-научных теорий и иных теорий я назвал «проблемой демаркации», а предлагаемое мною решение — «критерием демаркации», или «критерием фальсифицируемости».
Так, например, фальсифицируема теория, согласно которой прививка (вакцинация) защищает от оспы: если есть кто-то, кто был действительно привит и все же заболел оспой, тогда теория фальсифицирована. Критерий фальсифицируемости содержит в себе собственную проблему. Если бы из миллиона привитых людей оспой заболеет один, мы вряд ли сочтем нашу теорию фальсифицированной. Мы скорее допустим, что что-то было не в порядке с процедурой вакцинации или самой вакциной. Мы можем прибегнуть к вспомогательной гипотезе и отклонить фальсификацию. Мы можем выработать иммунитет — «иммунизировать» наши теории от любых возможных фальсификаций.
Сравним этот случай с примером теории, которая, по моему мнению, нефальсифицируема, — например» с фрейдовской теорией психоанализа. Очевидно, эта теория могла бы быть в принципе проверена лишь в том случае, если бы мы сумели описать некое поведение людей, противоречащее этой теории. Однако, какое бы необычное людское поведение мы ни вообразили — рискует ли человек своей жизнью, спасая другого, или, напротив, ставит под угрозу жизнь своего старинного друга, — все это не противоречит психоанализу. Психоанализ в принципе способен объяснить любое поведение человека, сколь бы необычным оно ни было. Стало быть, он не является эмпирически фальсифицируемым — он непроверяем. Этим я не хочу сказать, что у Фрейда не было многочисленных верных догадок. Я лишь утверждаю, что его теория не имеет никакого эмпирико-научного характера.
Критическая дискуссия нуждается в регулятивном принципе. Среди регулятивных идей, направляющих критическую дискуссию конкурирующих теорий, наибольшее значение имеют три идеи: во-первых, идея истины; во-вторых, идея логического и эмпирического содержания теории; и в-третьих, идея истинного содержания теории и приближения к истине.
Логическое содержание теории – это совокупность ее следствий, то есть множество или класс всех высказываний, логически выводимых из соответствующей теории. Чем шире множество следствий, тем богаче логическое содержание теории. Идея эмпирического содержания запрещает (исключает) определенные наблюдаемые проявления. Таким образом, эмпирическим содержанием теории можно назвать множество или класс запрещенных теорией эмпирических высказываний, то есть множество или класс эмпирических предложений, противоречащих теории. Интересно, что чем больше теория утверждает, тем шире множество ее потенциальных фальсификаторов.
Научная редукция и эссенциалистская неполнота науки
В связи с так называемой «редукцией» перед биологами стоят, по существу, три вопроса. Можем ли мы свести биологию к физике или к физике и химии? Можем ли мы свести те субъективные сознательные переживания, которые мы часто приписываем животным, к биологии. Можем ли мы свести самосознание и креативность человеческого ума к опыту животных.
С одной стороны, ученые должны быть редукционистами в том смысле, что ничто не имеет такого большого успеха в науке, как удачная редукция. Ученые, каким бы ни было их философское отношение к холизму, должны приветствовать редукционизм в качестве метода. С другой стороны, никакая значительная редукция в науке не была всецело успешной. Даже после самых удачных попыток редукций остается, скажем так, неразложимый осадок.
Я полагаю, что мы не должны отказываться от попыток редукции. Это объяснятся тем, что мы сами можем очень много полезного извлечь из неудачных или неполных попыток редукции, и тем, что вопросы, остающиеся таким образом открытыми, принадлежат к весьма ценному духовному арсеналу науки. В физике мы имеем дело по меньшей мере с четырьмя весьма различными и всё еще нередуцируемыми типами сил: гравитацией, слабым взаимодействием, электромагнитными и ядерными силами. Редукцию химии к физике не назовешь совершенной. Я полагаю, нам следовало бы признать, что здесь мы имеем дело с представлениями об эмерджентности и с эмерджентными свойствами.
Редукционизм как философия потерпел крах. Но с методологической точки зрения попытки редукции иногда приводят и к череде ошеломляющих успехов, и даже неудачи могут оказаться крайне плодотворными для науки.
Судя по всему, проблемы и необходимость их решать возникли вместе с жизнью. Но даже если еще до возникновения жизни действовало нечто, похожее на естественный отбор, — например, отбор устойчивых элементов благодаря радиоактивному распаду менее устойчивых, — мы не можем сказать, что для атомного ядра выживание в каком-то смысле слова является «проблемой».
Я называю «миром 1» мир физической материи, силовых полей и т.д., а «миром 2» — мир сознательного, а возможно, и подсознательного опыта. Наконец, «мир 3» — это, в частности, мир живого (письменного или устного) языка, состоящий из рассказанных кем-то историй, выдуманных мифов, сформулированных теорий, теоретических проблем, ошибок и аргументов. Я ввожу понятия «мир 1», «мир 2», «мир 3» с целью подчеркнуть (ограниченную) автономию этих областей.
Я считаю, что философский редукционизм — это заблуждение. Он проистекает из желания с помощью сущностей и субстанций редуцировать все к конечному (последнему) объяснению, то есть к объяснению, которое не допускает дальнейшего объяснения и не нуждается в нем. Как только мы отказываемся от теории конечного объяснения, мы понимаем, что задавать вопрос «Почему?» можно все дальше и дальше. Вопросы «почему?» никогда не приводят к конечному ответу. Умные дети, мне кажется, знают это, хотя они в итоге и уступают взрослым, у которых на самом деле просто недостаточно времени, чтобы отвечать на бесконечный, в принципе, ряд вопросов.
Теорема Гёделя утверждает, что система формализованной арифметики не может быть полной. Так как все физические науки применяют арифметику, то в свете теоремы Гёделя о неполноте все физические науки неполны — что должно было бы убедить редукционистов в неполноте всей науки в целом. Для нередукционистов, не верящих в редукцию всей науки к физическим формулировкам, наука и без того неполна.
Мы живем, как мне кажется, в мире эмерджентной эволюции, в мире проблем, решения которых, если их удается достичь, порождают новые и еще более глубокие проблемы. Таким образом, мы живем в универсуме развивающейся новизны — новизны, которую, как правило, нельзя редуцировать полностью ни к какому предшествующему состоянию.
Замечания реалиста к проблеме тела и души
Я именую мир физических процессов «миром 1», а мир психических процессов — «миром 2». «Миром 3» в широком смысле этого слова я называю мир продуктов человеческого духа; в более узком смысле это, в частности, мир наших теорий, в том числе ложных; а также мир научных проблем, включающих в себя вопрос об истинности или ложности различных теорий. В широком смысле слова к миру 3 следует отнести также поэтическое творчество и произведения искусства, например, оперы и концерты Моцарта. По своему характеру мир 3 реален и автономен, по меньшей мере отчасти. Это значит, что он обладает внутренними структурами, которые, по меньшей мере отчасти, не зависят от мира 2.
Проблема тела и души сводится к вопросу о том, связаны ли наши мыслительные процессы, протекающие в мире 2, с мозговыми процессами, протекающими в мире 1, и если связаны, то как. Перечислим основные попытки ответить на этот вопрос.
- Психофизическое взаимодействие: мир 2 и мир 1 взаимодействуют друг с другом, так что при чтении книги или прослушивании доклада возникают мозговые процессы, воздействующие на мир 2 мыслей читателя или слушателя.
- Психофизический параллелизм: каждый мыслительный процесс в мире 2 проходит параллельно с мозговым процессом в мире 1.
- Чистый физикализм, или философия поведения, или философский бихевиоризм: этот тезис состоит в том, что существует только один мир, а именно мир 1. И в нем возникают движения людей и животных или поведение людей и животных.
- Чистый психизм, или спиритуализм: этот тезис гласит, что существует лишь мир 2, а мир 1 — это только мое представление.
Я утверждаю, что 3-й и 4-й варианты представляют собой типичные попытки решения проблем посредством так называемой философии страуса. Разумеется, как только мы отрицаем либо существование души, либо существование тела, проблема связи между телом и душой сразу же исчезает.
Говоря о параллелизме, мы должны были бы упомянуть и о том, что существует такой участок мозга, в котором каждый физический процесс обязательно сопровождается параллельным психическим процессом. Дальше нам следовало бы сказать, что между всеми характерными процессами в этом участке мозга и всеми характерными процессами мира 2 существует некоторое однозначное соответствие. Однако задать такого рода взаимно однозначное соответствие представляется невозможным. И хотя я готов согласиться с тем, что в мире 2 не существует мыслительных процессов, не сопровождающихся мозговыми процессами в мире 1, тем не менее, как мне кажется, все свидетельствует в пользу того, что действительного параллелизма не существует.
Тот факт, что наши теории, принадлежащие миру 3, воздействуют обходным путем через мир 2 на мир 1, свидетельствует против тезиса о каузальной замкнутости мира 1. Но вместе с этим рушатся все доводы против учения о психофизическом взаимодействии.
Существование мира 3 и тот факт, что мы можем понимать объекты мира 3 посредством мыслительных процессов, стало быть, посредством мира 2, играют существенную роль в объяснении самосознания человека, самости или человеческой души, в противоположность душе у животных.
Теория познания и проблема мира
Теория языка животных и специфического человеческого языка. Я начну со схемы, принадлежащей выдающемуся психологу Карлу Бюлеру. Он различает три функции языка. Первые две обнаруживаются у многих животных и у всех людей, третья — только у людей. Самая простая из них — это функция выражения, или экспрессивная, которая может заключаться в мимике, вилянии хвостом, криках. Эти выразительные движения можно рассматривать как симптом внутреннего состояния организма.
Функция обращения к слушающему, или апеллятивная, — вторая функция Бюлера — может становиться сигнальной, и если она взаимна, то мы имеем дело с коммуникацией между животными. Третья функция Бюлера — функция представления, или репрезентативная, — обусловлена специфическим человеческим языком, в котором содержатся предложения, описывающие, или, как говорит Бюлер, изображающие положение вещей.
Знание животных и людей, как врожденное, так и приобретенное посредством обучения, состоит из ожиданий. Неоправдавшиеся ожидания переживаются как трудности, как проблемы, ведущие к новым экспериментам, стало быть, снова к активному обучению — к исследованию.
Активное обучение языку как у животных, так и у человека предполагает очень высокую степень внушаемости. Речь идет о врожденной глубокой потребности согласовать желания и оценки коммуницирующих особей одного и того же вида. А еще это тесно связано с сильной потребностью открывать окружающий нас мир, узнавать о нем новое, стало быть, знать. Поскольку потребность в достоверности — или в надежности приятелей, помощников — все-таки велика, усиливается потребность обладать общей догмой и внушать друг другу истинность этой догмы. Ненадежность внушает страх, и догма превращается в фанатическую веру.
На самом деле дети нуждаются в лидерах и в образцах для подражания, в догмах и строгом порядке. В дальнейшем, подрастая, молодое поколение все-таки может и должно начать освобождаться от руководителей, догм и идеологий «знатоков». В любом учебнике истории вы без труда сможете вычитать, будто бы наше время, уничтожившее рабство, не является лучшим из всех времен, о которых у нас есть исторические сведения. Безусловно, мы совершили много ошибок и все еще их совершаем — например, из-за наших ужасных идеологий.
Русские, живущие в мире, который во всех остальных отношениях намного хуже нашего, внушают своим детям и молодежи, что их страна — это рай. И действительно, это помогает. Русские довольнее жизнью, чем мы. Потребность во внушении — это могучая сила. Но и истина властна, когда за нее борются.
Для меня совершенно очевидно, что главным препятствием к миру является не атомная бомба. Я вижу только один очень трудный путь к миру. Это долгий путь. Возможно, дело дойдет до атомной войны задолго до того, как мы сделаем первый шаг на этом пути. Это путь, на котором интеллектуалам, имеющим все же в большинстве своем наилучшие намерения, прежде всего следовало бы стать немного скромнее и не пытаться играть большой руководящей роли. Никаких новых идеологий, никакого учреждения новой религии. Вместо этого — «немного больше интеллектуальной скромности». Без идеологии нет никакой войны.
Теоретико-познавательная позиция эволюционной теории познания
Я выдвигаю следующий тезис: все знание по своему содержанию априорно, точнее — генетически априорно. Апостериорным является только устранение гипотез — столкновение гипотез с реальностью. В этом и только в этом состоит эмпирический элемент нашего знания. И этого достаточно, чтобы обладать способностью учиться на опыте; этого достаточно, чтобы быть эмпиристом.
Начиная с примитивнейших животных протерозоя, с первичных клеток, живые организмы изобрели умение приспосабливаться. Теория Дарвина гласит следующее: наилучшим образом приспособленные индивиды имеют наибольший шанс оставить после себя потомство. В такой форме, на мой взгляд, она намного понятнее и намного лучше, чем, когда говорят об «отборе», или о «естественном отборе».
Проведем мысленный эксперимент по искусственному созданию жизни из неживых ингредиентов в пробирке. Тогда абсолютно неправдоподобно, что созданная нами таким способом жизнь будет продолжаться. И дело как раз в том, что у нас нет никаких оснований предполагать, будто эта созданная нами жизнь приспособлена к нашей пробирке. Я подозреваю, что жизни пришлось бы зарождаться много миллионов раз, прежде чем найдется среда, к которой эта жизнь была бы приспособлена. То, что жизнь возникает из какой-то неизвестной нам химической ситуации, еще не означает, что она зарождается в среде, в которой возможно продолжение жизни.
Если данная среда не обладает определенной устойчивостью, мы можем с уверенностью ожидать, что жизнь погибнет при каком-нибудь катастрофическом изменении окружающей среды. Таким образом, среда должна обладать определенной устойчивостью, создавая тем самым возможность приспособления, и в этом присутствует некоторое знание: жизнь должна с самого начала, стало быть, априори, знать об окружающей среде достаточно много. Приспособление — это форма априорного знания.
Я хочу подчеркнуть ту роль, которую играет априорное знание в моей эволюционной теории познания.
Гомология, знание и приспособление. Если я считаю, что мой нос гомологичен носу собаки, то я тем самым делаю первый шаг к эволюционной теории. Мышление посредством гомологий служит предпосылкой эволюционного мышления. Такое гомологичное мышление следует распространить и на наше знание, на приобретение знаний и на знание вообще. Так получилось, что у собаки и обезьяны есть нечто, соответствующее нашему человеческому знанию. Впрочем, это одна из причин, по которой догматический бихевиоризм, коротко говоря, глуп. Он не видит, что даже тогда, когда речь заходит только о поведении, мы уже вводим гомологию между нашим поведением и поведением животных.
Мой основной тезис в теории познания состоит в том, что знанию присуща высшая степень всеобщности, стало быть, оно является предвосхищающим, предвосхищающим среду на длительное время: таково, например, знание о смене дня и ночи, которое мы, по гомологии, подмечаем у цветов (цветы закрываются и т.д.). Эти формы знания, или эти приспособления, особенно у животных, можно обозначить как ожидания.
Насколько мне известно, почти все гносеологи (включая и Конрада Лоренца, которым я безмерно восхищаюсь) исходят так или иначе из того, что наше знание есть результат нашего восприятия. Восприятие — далеко не самый главный среди следопытов знания. Знание, фундаментальное знание, подобно щупальцам, выпускаемым нами во все стороны. Наше чувственное знание определяется не только тем, что встроено в нас анатомически и физиологически, но и тем, как наш мозг все фильтрует и, скажем так, интегрирует. А это определяется прежде всего нашими целями и замыслами.
Я не согласен с утверждением о том, что мое восприятие подобно фотографии. Я активен и нахожусь в поиске, и в процессе поиска я истолковываю определенные вещи определенным образом, порой — в полном соответствии с преследуемыми именно мною целями и желаниями.
Я утверждаю, что не существует никакой индукции. Идея индукции состоит в ответе на вопрос: «Как мы познаем?» — «Как мы достигаем нашего знания?» Традиционный ответ звучит так: «Ну что ж, я открываю глаза и осматриваюсь вокруг, в результате я знаю». Эту идею об оправдании нашего знания можно найти почти у всех гносеологов. Посмотрим, к примеру, что пишет Рудольф Карнап: «Как ты достигаешь своего знания?» «Какие восприятия лежат в основе твоих воззрений?» Для Карнапа второй вопрос оказывается парафразой первого. То, что у меня есть восприятия и что из этих восприятий проистекает мое знание, считается чем-то самоочевидным. Однако я утверждаю, что наше знание на 99 %, или даже на 99,9 %, является биологически врожденным.
Это знали уже древние греки. Они говорили: «Боги обладают достоверным знанием — эпистемой, люди же имеют только мнения — доксу. Эту здравую и правильную точку зрения первым извратил Аристотель. Это он сказал, что и у нас тоже есть эпистема, стало быть, достоверное знание — доказуемое знание. А для того чтобы получить доказуемое знание, он изобрел индукцию.
К теме свободы
Школы существовали уже среди весьма примитивных народов. Задача школы состоит всегда в том, чтобы сохранить и передать учение основателя школы. Если член школы пытается изменить учение, то его изгоняют как еретика, и в школе возникает раскол, Фалес из Милета, основатель ионийской школы натурфилософии совершил поистине эпохальный шаг. В этой единственной среди всех школ, ученики пытались совершенно открыто улучшить учение учителя.
Фалес говорил своим ученикам: «Это — мое учение. Так я мыслю себе вещи. Попытайтесь его улучшить». Тем самым Фалес заложил новую традицию — можно сказать, двухступенчатую традицию. Во-первых, его собственное учение передавалось через традицию школы, а также через отклоняющиеся от традиции учения каждого нового поколения учеников. Во-вторых, традиция поддерживалась тем, что ученики подвергали критике своего учителя и пытались улучшить его идеи. Стало быть, в этой школе изменение, преодоление учения принималось за успех, и такое преобразование связывалось с оглашением имени того, кто его осуществил.
Двухступенчатая традиция, которую я здесь описал, характерна для нашей современной науки. Она является одним из важнейших элементов нашего западного мира. Эта традиция была утеряна в Древней Греции, но была заново открыта спустя полтора тысячелетия, в эпоху Ренессанса, — по существу, Галилео Галилеем.
В политической сфере свобода становится проблемой, так как неограниченная свобода каждого отдельного человека, безусловно, невозможна из-за совместного проживания людей. Если я могу позволить себе делать все, что хочу, то я также вправе ущемлять свободу других. Кант решал этот вопрос, выдвигая перед государством требование ограничивать свободу отдельного человека настолько и только настолько, насколько это необходимо для совместного проживания людей, при этом такое необходимое ограничение свободы должно касаться, по возможности, в равной мере всех граждан.
Однако у нас нет критерия политической свободы, так как часто в отдельных случаях мы не можем установить, действительно ли необходимо определенное ограничение свободы и не является ли оно бременем, налагаемым в равной степени на всех граждан. Поэтому мы нуждаемся в другом, легче применимом критерии. В качестве такового я предлагаю следующий: государство политически свободно, когда его политические институты практически доступны для его граждан без того, чтобы это влекло кровопролитие при смене правительства в случае, когда большинство желает его смены. Здесь мы имеем дело с критерием, позволяющим нам отличить демократию от тирании.
Я утверждаю, что наш мир, мир западных демократий, хотя и не является лучшим из всех мыслимых или логически возможных политических миров, все-таки является лучшим из всех политических миров, которые известны в истории. Однако мы должны все-таки остерегаться приписывать этот факт демократии или свободе. Ошибочно и крайне опасно рекламировать свободу рассказами о том, что люди будут обеспечены всеми благами, если они сперва станут свободными. Нельзя забывать также о деловитости, усердии и других добродетелях. Мы можем выбирать политическую свободу не потому, что нам обещают комфортную жизнь, а потому, что она сама есть предельная (абсолютная) ценность, несводимая к ценности материальной. Неверно, что вера в свободу всегда приводит к победе. Нам следует быть готовыми к тому, что она (вера) может вести к поражению; если мы выбираем свободу, мы должны быть готовы погибнуть вместе с ней.
Об историографии и смысле истории
Невозможно написать историю, не определив свою позицию по основным проблемам общества, политики и нравственности. Такая позиция всегда будет содержать существенный личностный элемент. Отбор затрагиваемых фактов есть всегда в высшей степени предмет личного решения. А это значит, что из бесконечного многообразия фактов и их аспектов мы выбираем лишь те, которые представляют для нас интерес, поскольку они связаны с определенной научной теорией, которую мы более или менее ясно себе представляем заранее. Однако, неверно, что мы выбираем только те факты, которые подтверждают или повторяют эту теорию в ее исходном виде.
Метод науки, напротив, состоит в том, чтобы обнаруживать факты, которые могут опровергнуть теорию. Этот процесс мы называем проверкой теории: мы проверяем, не содержит ли теория ошибку. Эту ситуацию можно лучше всего прояснить, сравнив науку с прожектором («прожекторная теория науки», как я ее обычно именую, в противоположность «бадейной теории сознания).
С нашей точки зрения, никаких исторических законов не может быть вовсе. Законы или обобщения относятся к некоторой другой сфере интересов, явно отличной от интереса к отдельным событиям и их причинному объяснению, характерного для истории. Кто интересуется законами, тот должен обращаться к обобщающим наукам (например, к социологии).
Наша точка зрения также объясняет, почему в истории чаще, чем в обобщающих науках, мы сталкиваемся с проблемой «неисчерпаемости предмета исследования». Теории или универсальные законы привносят в обобщающие науки как единство, так и некоторую «точку зрения». Но в истории нет таких унифицирующих теорий.
Исторические теории я буду называть, в отличие от научных теорий, «историческими концепциями» (взглядами) или «историческими интерпретациями». Исторические концепции важны, потому, что они выражают некоторую точку зрения. Всегда найдется ряд других (возможно, несовместимых между собой) исторических интерпретаций, согласующихся с теми же историческими источниками, и редко мы можем получить в свое распоряжение новые данные, способные сыграть роль решающего эксперимента, как это бывает в физике.
Конечно, это не означает, что все интерпретации или исторические концепции равноценны. Во-первых, всегда найдутся интерпретации, не согласующиеся с общепризнанными фактами. Во-вторых, имеются интерпретации, нуждающиеся в некотором количестве более или менее правдоподобных вспомогательных гипотез для того, чтобы избежать фальсификации с помощью исторических данных. В-третьих, существуют интерпретации, в рамках которых некоторые факты не согласуются между собой, между тем как эти же факты вполне согласуются и тем самым «объясняются» посредством другой интерпретации.
Поскольку у каждого поколения есть свои трудности, проблемы, а стало быть, и свои интересы и взгляды, то каждое поколение вправе рассматривать историю по-своему, интерпретировать ее со своей точки зрения, дополняющей точку зрения предшествующих поколений. Каждое поколение не только имеет право, но в каком-то смысле даже обязано это делать, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Нам не просто хотелось бы знать, как связаны наши беды с прошлым: мы настоятельно нуждаемся в этом знании. Нам хотелось бы видеть путь, двигаясь по которому, мы могли бы найти решения для выбранных нами основных задач.
И если эта потребность не может быть удовлетворена в разумной и критической форме, тогда она порождает историцистские интерпретации. Под ее давлением историцист заменяет рациональные вопросы: «Что мы должны выбрать в качестве своих наиболее неотложных проблем, как они возникают и как можно их решить?» — иррациональными и только внешне ссылающимися на факты вопросами: «Каким путем мы идем? Каким направлениям и тенденциям следует наше время? Какова, в сущности, роль, предназначенная нам историей?»
Историцистская интерпретация сравнима с прожектором, направленным на нас самих. Свет этого прожектора мешает — даже отнимает возможность — увидеть то, что происходит вокруг нас, и парализует наши действия. Эту метафору можно пояснить так: историцист не осознает, что мы сами отбираем и упорядочиваем исторические факты, а верит в то, что «сама история», или «история человечества», в соответствии с присущими ей законами определяет наши проблемы, наше будущее и даже наши точки зрения.
Вместо того чтобы осознать, что историческая интерпретация должна удовлетворять потребность решать практические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, историцист верит в то, что в нашем интересе к исторической интерпретации выражается глубокая интуиция, что, рассматривая историю, мы можем раскрыть тайну, сущность человеческой судьбы. Историцизм желает ключ к истории, или открыть смысл истории. Однако существует ли такой ключ? Имеет ли всемирная история смысл? Я считаю, что всемирная история не имеет никакого смысла.
Историцизм возникает из страха: он страшится мнения, что мы должны сами нести ответственность за принятые нами этические нормы. Ведь историцизм полагает, что мы можем пожинать там, где ничего не посеяли. Он пытается убедить нас в том, что все будет и должно быть хорошо, если мы пойдем в ногу с историей, что с нашей стороны не требуется никаких принципиальных решений.
Вместо того чтобы вставать в позу пророков, мы должны стать творцами своей судьбы. Мы должны учиться выполнять поставленные перед нами задачи столь хорошо, насколько это возможно, и выявлять свои ошибки.
Замечания к теории и практике демократического государства
Греки применяли различные названия для различных форм государственного правления, очевидно, потому, что хотели рассудить, какие возможные формы правления являются хорошими и плохими, наилучшими и наихудшими. Так, они ввели пять терминов для обозначения государственного устройства в соответствии с моральными качествами правителей. В дальнейшем этой идеей воспользовался Платон, который свел ее в следующую систему.
1 + 2 – Монархия — правление одного добродетельного человека, а ее извращенная форма — тирания, правление одного порочного человека.
3 + 4 – Аристократия — правление нескольких добродетельных людей, а ее извращенная форма — олигархия, правление нескольких недобродетельных людей.
5 – Демократия — правление народа, многих, толпы. Согласно Платону, здесь существует только одна форма, и наихудшая, так как среди многих всегда имеется много дурного.
Я предложил отвергнуть платоновский вопрос «Кто должен править?» как ошибочный и навсегда закрытый. Он ведет к точке зрения, акцентирующей внимание на власти тех, кто правит, вместо того чтобы работать над тем, как можно ограничить власть. Потому я предлагаю заменить платоновский вопрос «Кто должен править?» другим: существуют ли формы правления, позволяющие нам избавиться от неприемлемого или даже некомпетентного правительства, которое приносит один только вред? Я утверждаю, что эти вопросы лежат в основе даже афинской демократии, равно как и наших современных западных демократий.
Демократии являются не народовластием, а институтами, направленными в первую очередь против диктатуры. Они не допускают никакой аккумуляции власти, а пытаются ограничить государственную власть. Решающим моментом является то, что при таком понимании демократия открывает возможность избавиться от правительства без кровопролития, если оно не соблюдает свои права и обязанности, а также если мы оцениваем его политику как плохую или неудачную.
Мы нуждаемся в свободе, чтобы воспрепятствовать злоупотреблению государственной властью, но мы нуждаемся и в государстве, чтобы воспрепятствовать злоупотреблению свободой отдельными гражданами. Кант требовал «государственного строя, основанного на наибольшей человеческой свободе согласно законам», в соответствии с которыми свобода каждого «могла бы сосуществовать со свободой других». И еще, «…правление, основанное на принципе благоволения народу… то есть правление отеческое… такое правление есть величайший деспотизм». Кант отвергал идею патернализма (о современном патернализме см. Ричард Талер. Nudge. Архитектура выбора).
Кант, Гумбольдт и Милль старались обосновать необходимость государства таким образом, чтобы удерживать его в максимально узких границах.
Вся жизнь — решение проблем
Вся жизнь — решение проблем. Все организмы — изобретатели и техники, более или менее хорошие, более или менее удачливые в решении технических проблем. Именно так обстоит дело у животных, например, у пауков. Изобретенная человеком техника, будь то канализация, средства поставки воды и питания или средства складирования, решает человеческие проблемы, но то же самое делают, например, уже и пчелы. Поэтому враждебное отношение к технике, что мы часто наблюдаем со стороны зеленых, бессмысленно, ведь это, по сути, вражда против жизни — чего, к сожалению, зеленые не понимают.
Против цинизма в интерпретации истории
Марксистская интерпретация истории известна под названиями «материалистическое понимание истории» или «исторический материализм» — оба названия восходят к Марксу и Энгельсу. Она представляет собой некоторое истолкование на новый лад гегелевской философии истории: история здесь рассматривается более не как история борьбы рас, а как история классовой борьбы. И она ставит перед собой одну-единственную цель: пытается доказать — научно доказать, — что социализм (или коммунизм — в слова сейчас вдаваться не будем) должен победить с исторической необходимостью.
Притязание марксизма на научную доказуемость предсказания о неизбежной социальной революции и неизбежном переходе к социализму таит в себе ужасную моральную опасность. Ведь если социализм должен наступить, то в таком случае очевидно, что в действительности преступно бороться против перехода к социализму.
Человеку как отдельной личности нет смысла противостоять этому, стало быть, следует выступать вместе с движением, с партией и лояльно поддерживать их; даже в том случае, если это означает, что нужно поддерживать или по меньшей мере молча мириться с вещами, к которым с нравственной точки зрения испытываешь отвращение.
Я сам спасался бегством от этого механизма. Под впечатлением смерти нескольких молодых товарищей, расстрелянных полицейскими во время демонстрации, я навсегда отрекся от марксизма и осудил его.
Я — оптимист, который ничего не знает о будущем и который потому не делает никаких прогнозов. Я утверждаю, что мы должны провести некую строгую демаркационную линию между современностью, которую мы можем и должны оценить, и будущим, которое далеко обозримо и может зависеть от нас. Поэтому наша основная установка строится не на вопросе «Что произойдет?», а на вопросе: «Что нам следует делать, чтобы, где это возможно, мир стал немного лучше?
Я не считаю, что существует что-то вроде закона прогресса. Этого не было никогда ни в науке, ни в технике.
Мы живем в удивительно красивом мире, и мы создали здесь, в западном мире, наилучшую социальную систему, существовавшую когда-либо до сих пор. И мы стараемся постоянно ее улучшать, реформировать. Господствующая сегодня идеология, согласно которой с моральной точки зрения мы живем в мире, полном зла, является очевидной ложью.
«Войны ведутся ради мира»
Интервью журналу «Der Spiegel», апрель 1992 г.
Представители философии истории в Германии, начиная по меньшей мере с Гегеля, всегда полагали, что она должна быть в каком-то смысле пророческой. Я считаю это мнение ошибочным. История нас учит, но она завершается сегодня и в данный момент.
Коммунистическое безумие заключается, по сути, в том (и это обнаруживалось уже у Маркса), что так называемый капиталистический мир рассматривается как исчадие ада. Того, что Маркс называл капитализмом, в мире никогда не существовало. С чисто исторической точки зрения с тех пор условия постоянно улучшались, в то время как Маркс утверждал, что они постоянно ухудшаются и должны постоянно ухудшаться. Это абсолютная бессмыслица. Ведь индустриализация не может нести обнищание.
Я отношусь к нашему современному обществу очень критически. В нем можно многое улучшить. Однако наш либеральный общественный строй является наилучшим и самым справедливым из всех когда-либо существовавших на земле. Он возникает из известного Марксу строя путем эволюции.
Крах советского коммунизма и конец биполярности не сделали мир безопасным. Наша первая цель сегодня — установить мир. Этого очень трудно добиться в таком мире, как наш, где существуют Саддам Хусейн и подобные ему диктаторы. В таком положении нам нельзя бояться вести войны ради мира. В сложившихся обстоятельствах это неизбежно. Это печально, но мы должны это делать, если хотим спасти наш мир. Решительность здесь имеет ключевое значение.
Природа озоновых дыр еще неизвестна. Возможно, они существуют уже миллионы лет. Возможно, они никак не связаны с чем-либо современным. Именитые ученые смотрят на это иначе. Но именитые ученые не всегда правы. Я не утверждаю, что они ошибаются, а утверждаю только то, что мы часто знаем меньше, чем полагаем.
Я охотно спорю с зелеными из-за их сумасшедшей враждебности к естественным наукам и технике. В движении зеленых содержится определенное антирационалистическое ядро.